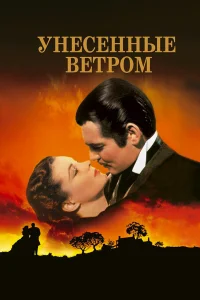Последняя смена тянулась бесконечно. За плечами — годы ночных вызовов, криков, крови и тишины, которая наступала слишком поздно. Сегодня всё должно было закончиться. Но сначала — эти двадцать четыре часа с новичком, который смотрел на мир широко открытыми, ещё не уставшими глазами.
Каждый вызов отдавался эхом в висках: ДТП на трассе, где пришлось вытаскивать ребёнка из искорёженной машины; старик с остановкой сердца в душной квартире; подросток с передозом в подворотне. Новичок старательно повторял движения, задавал вопросы, кивал. А он, сквозь нарастающее онемение, объяснял: вот так жгу́т накладывать, вот здесь — не давить, вот это — говорить родственникам, когда уже ничего нельзя сделать.
Между вызовами, в качающейся карете, пытался передать не только алгоритмы. Говорил о том, как по дыханию понять, что человек вот-вот уйдёт. Как отличить панику от шока. Как самому не сломаться, когда за смену — третья смерть. Слова давались с трудом, будто язык стал ватным. Новичок слушал, записывал что-то в блокнот, изредка вздрагивая от радиопомех.
Под утро, когда город затихал на пару часов, они пили кофе из пластиковых стаканчиков. "Как вы столько лет выдержали?" — спросил новичок. Он лишь пожал плечами, глядя в потёртый стол. Не ответил, что выдержал — до сегодняшнего дня. Что сейчас в нём не осталось ничего, кроме автоматических движений и глухой усталости где-то за грудной клеткой.
Последний вызов был на рассвете — банальная гипертония, ничего серьёзного. Когда укладывали аппаратуру, он вдруг понял, что больше не чувствует ничего: ни облегчения, ни пустоты. Просто тихий щелчок внутри, будто переключили тумблер.
Передавая ключи от машины, встретился взглядом с тем, кто теперь займёт его место. "Удачи," — сказал он, и это было единственное честное слово за всю смену. Вышел на улицу. Утро было холодным и очень тихим. Он сел в свою старую машину, но не завёл мотор сразу, а просто сидел, глядя на пустую парковку. Впереди был только тихий гул в ушах и долгая, ничем не заполненная тишина.